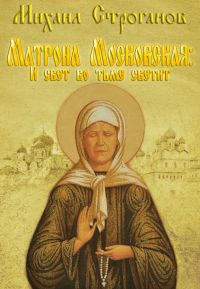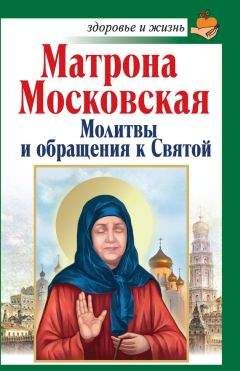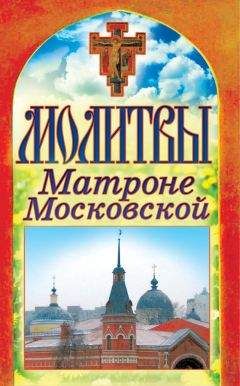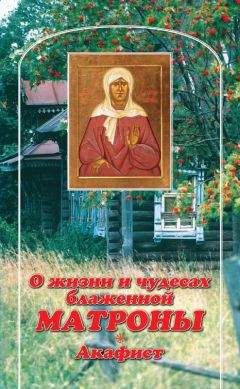С. С. Аверинцев - С. С. Аверинцев Поэты
Сесил в качестве журналиста занимался преимущественно тем, что кого–то разоблачал и выводил на чистую воду. Сейчас уже невозможно разобраться, какая доля справедливости присутствовала в его разоблачениях. В гражданском мужестве ему не откажешь, потому что задирал он людей весьма влиятельных; однажды ему даже грозило тюремное заключение за диффамацию. Но черты беспокойного демагога с антисемитским акцентом у него тоже были. Гилберт брата обожал, видел в нем правдолюбца, почти мученика, и после смерти Сесила во французском госпитале такое отношение естественным образом усилилось. Его влиянием порождены кое–какие пассажи, отмеченные не свойственной Честертону агрессивностью.
Беллок был блестящий стилист и, по свидетельству современников, еще более блестящий собеседник, виртуоз спора; в нем было что–то от дуэлянта. С очень широкими, хотя не всегда надежными, познаниями в области истории, а также социологии и отчасти политической экономии он соединял большую самоуверенность. Его суждения о европейском средневековье и Великой французской революции, которые он любил, и об английском шестнадцатом столетии, которое он не любил, отличались крайней решительностью. Кое–что в своем собственном времени он сумел увидеть очень точно — например, подъем монополий и связанное с этим перерождение всего состава западного образа жизни. Его книгу «Государство рабов» даже теперь можно читать как пророчество. Именно он приучил думать о таких материях Честертона. В актуальной полемике они выступали бок о бок, нападая на капитализм и одновременно на социализм, отстаивая католическую веру и мелкую крестьянскую собственность; современники могли воспринимать их чуть ли не как двойников. Бернард Шоу, непрерывно с ними споривший, придумал для них прозвище «Честербеллок», широко вошедшее в обиход. Сам Честертон с большим удовольствием говорит в «Автобиографии» о Честербеллоке как чудище с четырьмя ногами и двумя лицами, явившемся на свет из плохонького кафе в Сохо. Помимо убеждений их связывало схожее, несколько риторическое чувство стиля; но их души не были похожи. Достаточно вспомнить, что лучшие стихи Беллока — это очень злое пересмеивание и вышучивание назидательной детской поэзии, своего рода черный юмор для детей, чтобы увидеть пропасть, отделявшую его от Честертона, которому мысль о детстве внушала совсем иные строки. Честертон был не то чтобы добродушнее — с этим не так просто, под покровом честертоновского добродушия скрываются разные вещи; но где–то в глубине его личности были неистощимые запасы такой радости, перед лицом которой колючие и кусачие выпады просто мелки.
Сесил был любимым братом, Беллок был лучшим другом. Ближе них никого не было — только Френсис. Честертону безудержно хотелось преклоняться перед ними и слушаться их; такая скромность симпатична, но результаты ее бывали плачевны. И то сказать, впрочем — сегодня нам куда легче заметить случаи, когда их влияние отклоняло их друга от органичного для него пути, чем оценить, в какой мере исходившая от них моральная поддержка помогла ему одолеть то, что сам он называл своей ленью, то есть мечтательную пассивность, присущую ему с детства, писать так много и так неутомимо, вести разговор с читателем так легко и уверенно. Как говорится, нехорошо человеку быть одному, а без Сесила и в особенности без Беллока Честертону грозило бы одиночество если не в жизни (где с ним была Френсис), то в литературе. Похоже, мы должны не столько бранить их, сколько поблагодарить за то, что имеем его.
Так или иначе, этот случай более обычный; всем троим основательно или неосновательно казалось, что они — единомышленники. Совсем иное дело — тот самый Бернард Шоу, который окрестил своих оппонентов Честербеллоком. Честертон спорил с Шоу буквально обо всем на свете и еще кое о чем — о Боге и религии, о науке и научности, о национальном вопросе, о наилучшем социальном устроении человечества; и прочая, и прочая. Они спорили приватно и публично, устно, письменно и печатно, в письмах, статьях, книгах, рецензиях и лекциях. Обращение Честертона в католицизм совершилось под аккомпанемент иронических комментариев Шоу; Честертон не оставался в долгу, настаивая, например, на большей логической четкости, а следовательно, «научности» старого понятия «Бог» в сравнении с любезной Шоу «силой жизни». Шоу свирепо нападал на мелкособственническую утопию Честертона, Честертон — на размеренный фабианский социализм Шоу. Но никакие разногласия не могли им помешать восхищаться друг другом и выказывать друг другу искреннюю симпатию. Их отношения трудно назвать дружбой, но еще труднее отыскать для них другое имя. Во всяком случае, это было безупречное товарищество партнеров в поединке.
Но у Честертона был еще один противник, с которым он не переставал спорить и тогда, когда на поверхности никакого спора вообще не происходило, и только по чрезвычайно повышенному тону какого–нибудь простого утверждения можно догадываться, что автор задет не на шутку. Этот вечный противник — сам Честертон, каким он был в юности, в те годы, когда учился последовательно в двух художественных школах; до крайности эмоционально избалованный и изнеженный, погруженный в вечные сны наяву, предоставивший неограниченную свободу бессознательным силам своей души, не связанный ничем конкретным и реальным. И все это происходило в душной атмосфере конца века, во времена Суинберна и Оскар Уайльда, когда от всех вещей словно исходил тонкий яд.
Мальчик еще оставался и добрым, по крайней мере, добродушным, и совершенно невинным в житейском смысле; но ему грозила опасность стать «артистической натурой» со всеми неприятными свойствами таковой. Почти неуловимое веяние того, что сам он потом назвал моральной анархией, грозило обессмыслить и радость и чистоту. Мы никогда ничего не поймем в Честертоне, если забудем, какие отчаянные усилия пришлось ему приложить, чтобы избежать этого. Мы не поймем ни шока, ни восторга, с которыми он узнал когда–то, что его будущая жена — совсем другая, что она не имеет ни малейшего расположения к нескончаемым разговорам об искусстве и даже не любит лунного света, зато обожает возиться в саду; что самые модные писатели не представляют для нее никакого авторитета. Мы не поймем его романтического преклонения перед самыми неромантическими вещами и людьми — перед домовитостью женщины и непочтительным чувством товарищеского равенства в мужчине, перед грубой прямотой хорошего спорщика, перед крестьянской «творческой скупостью», а прежде всего — перед здравым смыслом и трюизмами традиционной морали. Нельзя сказать, конечно, что в Честертоне не осталось на всю жизнь черт юноши, каким он был когда–то. Нельзя сказать и другое — что присутствие этих черт всегда составляло только его слабость. Слабость вообще не так легко отделить от силы — кто решится провести черту, на которой парадоксы Честертона перестают быть выражением абсолютно здравой свободы ума и начинают смахивать на то самое не в меру легкое движение духа в невесомости, что грозило в свое время ученику двух художественных школ? До известных пределов слабость разумно рассматривать как оборотную сторону силы; но именно до известных пределов. Пределы своим слабостям поставил сам Честертон, и сделал он это в острой борьбе с самим собой. Он всю жизнь наказывал и унижал эстета в самом себе, подвергал его форменному бичеванию, да еще старался делать это весело. Отсюда понятно многое, что иначе выглядело бы как странная тяга к вульгарности. Все, что помогает шоковой терапии эстетизма, уже за это получает от Честертона похвалу — например, детектив или мелодрама. С его точки зрения, лучше грубый смех, чем отрешенная и тихая улыбка превосходства, потому что во втором есть тонкое духовное зло, отсутствующее в первом. Что до приевшихся моральных прописей, они увидены как самое неожиданное, что есть на свете: как спасительная пристань по ту сторону безумия. Бели иметь в виду ранний опыт писателя, это понятно. В среде артистической молодежи парадоксы были нормой, а на прописи было наложено табу; поэтому, хотя привычка к парадоксам осталась у Честертона навсегда, он чувствовал, что настоящее мужество требуется ему для того, чтобы провозглашать прописи.
Его здравомыслие было не данностью, а выбором, драматичным, как всякий настоящий выбор.
Герман Гессе[252]
У солнечного склона холма присел высокий, худощавый человек. На острых коленях покоятся длинные руки с очень выразительными пальцами, тонкими и сильными, какие подошли бы пианисту; и это не единственное, что наводит на мысль о музыке. Бсть внутренняя музыкальность в непринужденной позе, сочетающей — словно поза кошки на отдыхе — глубокий покой и напряженную энергию всматривания и вслушивания. Перед нами убежденный любитель досуга, отучивший себя нервно поглядывать на часы, дающий своему времени течь ровной, широкой, рекой, но в нем нет решительно ничего вялого, расслабившегося. Вся складная, жестковатая фигура словно вырезана из дерева каким–нибудь немецким мастером XV столетия. Черты загорелого, морщинистого лица в тени широкополой соломенной шляпы правильны и резки. Линия профиля определена острым, выдавшимся вперед носом, похожим на птичий клюв, и упрямым подбородком, тоже острым и выдавшимся вперед. Шея вытянута, что усугубляет сходство с птицей, голова чуть запрокинута, большие глаза за стеклами очков смотрят вдаль — на зеленеющие долины и голубые горы швейцарского ландшафта.